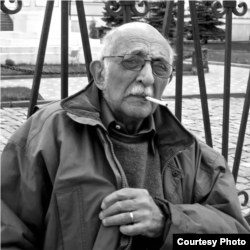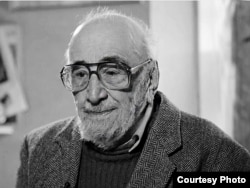Мария Васильевна Розанова ведет беседу с гостями из Парижа, Лондона и Иерусалима. Александр Пятигорский, Леонид Владимиров, Наталья Рубинштейн и другие – о языковом будущем детей в изгнании. О проблеме, которая волновала эмигрантов всех поколений. По материалам передачи 16 апреля 1979 года.
Мария Розанова: В последние годы из Советского Союза уже выехало более 100 тысяч граждан. И примерно 1/4 часть этой эмиграции – дети. Как же дается им это переселение народов и на каком языке они говорят?
Известно, что дети гораздо быстрее, чем мы, взрослые, входят в иноязычную среду и очень скоро начинают болтать на равных со своими новыми товарищами. Процесс ассимиляции проходит у них проще, но на самом деле эта проблема много сложнее и драматичнее, чем кажется на первый взгляд. Ведь легко усваивая чужую речь, дети столь же легко теряют навыки своего родного языка. Таким образом, наша первая проблема – как в новых условиях сохранить родной язык.
Говорит Наталья Рубинштейн, литературный критик и журналист, живущая ныне в Израиле.
Наталья Рубинштейн: Это и в самом деле проблема. Мне самой из Ленинграда она рисовалась так: дети мои, конечно же, будут говорить, читать и писать на двух, по меньшей мере, языках. О себе я знала твердо, что при всех условиях останусь при одном – русском. Даже если обучусь ивриту настолько, что стану справляться в лавочке и читать ивритскую газету.
Тут мне рисовались различные сложности с детьми, которые ведь могут слегка презрительно относиться к моему самодельному ивриту. И мне вспоминались старенькие бабушки моих школьных подруг, которые говорили по-русски с идишским акцентом и над которыми мы за этот акцент посмеивались. И я решила, что говорить с детьми буду дома только по-русски, чтобы дети не думали, что мать у них идиотка, не умеющая выразить себя.
Но вот мы приехали в Израиль, встретились с некоторыми друзьями, которые уехали на год-два раньше нас, и я увидела, что сохранение языка у детей – это действительно проблема. Дети, полтора года назад гонявшие по двору с моим сыном, затруднялись в подборе русских слов. И хотя родители утверждали, что они якобы всё понимают, было ясно, что и понимают они далеко не всё. Я дала себе слово, что с моими детьми ничего подобного не случится. И действительно, и сын, которому три года назад, когда мы приехали в Израиль, было 8 лет, и дочка, которую мы привезли трехлетней, прекрасно говорят по-русски, хотя не удалось уберечь их от некоторого акцента.
Мы с детьми и по сей день не ложимся спать, не почитав перед сном вслух
Дело это, я имею в виду сохранение языка, не потребовало от меня особых усилий. Я всегда много времени проводила с детьми. Как когда-то сына в России, так и дочку теперь я стала обучать читать по-русски, едва ей исполнилось четыре года. Как и раньше, с утра до вечера в их комнате крутятся русские пластинки. И мы с ними и по сей день не ложимся спать, не почитав перед сном вслух. Дети знают наизусть много стихов, как все интеллигентные дети в России. Они очень любят говорить по-русски, и им нравится, что знакомые хвалят их за хороший русский язык. Но если знакомые родителей хвалят детей за хороший русский язык, то значит этот русский, наш русский язык, перестает быть языком главным, первым, превращается в диковинку. Разве это не потеря?
Наши дети твердо знают, что второй язык, то, что у них два языка, - это их богатство, и они любят говорить по-русски. Иногда дочка из чистого кокетства, начинает громко говорить по-русски в автобусе или на остановке. Это ей хочется, чтобы ее спросили, откуда она, давно ли она из России, а она будет им отвечать на своем совершенно замечательном иврите. И еще она скажет: "Мама плохо говорит на иврите, но я ей всегда помогаю". И это чистая правда.
Мария Розанова: На этот счет о соотношении разных языков в жизни и психике наших детей среди советской эмиграции нет единого мнения. Говорит Александр Пятигорский, лингвист и философ.
Александр Пятигорский: У меня всегда перед глазами другая картина. У меня было много знакомых и друзей из Тбилиси. Это люди, которые с детства, и их дети тоже, говорили минимум на двух языках: на грузинском и на армянском, а большинство из них говорили на трех языках и очень хорошо: на грузинском, армянском и русском. И вот замечательно, что такая культуроемкость, когда это естественная ситуация, эта культуроемкость нисколько не мешает человеку в жизни, она наоборот его обогащает. Мне кажется, что нам надо воспитывать наших детей в атмосфере не выбора между языками, а в атмосфере, что вот этот билингвизм, как минимум билингвизм, есть очень естественная и хорошая вещь, которая их сделает образованнее, умнее, а может быть даже, боюсь сказать, лучше.
Я надеюсь, что мои дети будут говорить на русском и на английском, как, между прочим, когда-то десятки тысяч русских детей говорили по-русски и по-французски, и никакой этой вшивой проблемы не было.
Мария Розанова: Да, билингвизм, разумеется, прекрасная вещь. Но грузинские друзья Пятигорского, приезжая в Москву и разговаривая по-русски, не теряют связь со своей Грузией. Так же как дворянские дети в России в XIX веке, разговаривая по-французски, не теряли, как правило, связи с родной средой и стихией русского языка. Потому же и на Западе сейчас билингвизм - обычное явление, которое не сопровождается жертвами и потерями в родной речи. Допустим, англичанин, живущий в Париже, разговаривает свободно по-французски. Но это никоим образом не отражается на его английском языке и английском характере. И все это многоязычие держится на том, что страны и нации открыты друг другу, и люди живут в открытом мире.
Как научиться другим языкам, не утратив свой?
А покидая Россию, современный советский человек прекрасно сознает, что двери Родины захлопываются за ним, быть может, навсегда. И возникает вопрос: как сохранить язык этого закрытого мира и как научиться другим языкам, не утратив свой? Продолжает Алла Дувалян, преподавательница школы восточных языков в Париже.
Алла Дувалян: Нужно быть очень осторожной, когда вы привозите ребенка в другую страну, потому что тенденция здорового ребенка - сразу унифицироваться, стать таким же, как все другие дети. Поэтому язык русский они забывают, тем более, если родители не проявляют достаточного упорства и достаточного внимания, чтобы ребенок сохранил язык. Моему сыну было 4,5 года, когда он приехал в Париж. И он отлично говорил по-русски. Воспитательница в детском саду говорила, что у него просто дар к языку, такое чувство слова необыкновенное. Он строил сложные предложения, уже владел причастным оборотом и всё, и всё. В общем, короче говоря, он приехал в Париж. И здесь у меня были всякие сложности по организации жизни, быта, работы. И по совету друзей я его отдала в пансионат. И он, так сказать, прыгнул в воду, не умея плавать. Он оказался абсолютно во французском окружении среди французских детей с французскими воспитательницами.
И по-французски, плача, он мне сказал: "Я забыл русский язык"
Первые дни он без умолку говорил по-русски и всем рассказывал непонятно что. А потом он замолк, потому что он догадался, он почувствовал, что его не понимают, он замолк. И через несколько недель он начал потихоньку говорить по-французски. Через три месяца, когда все мои дела устроились и я его забрала домой, он говорил по-французски как маленький парижанин. Но по-русски он больше не говорил. И когда его забрала из пансионата, я помню, первую фразу, которую я ему сказала с раздражением: "Убери свои игрушки", он начал собирать игрушки и заплакал. И когда он заплакал, я не поняла его слез, я его спросила: "Почему ты плачешь?" И по-французски, плача, он мне сказал: "Я забыл русский язык".
Мария Розанова: Ситуация драматическая, не правда ли? И, кажется, безвыходная. Но тут возражает Наталья Рубинштейн:
Наталья Рубинштейн: Неожиданно для себя я пришла к выводу, что дети сохраняют русский язык только в том случае, если родителям есть что им сказать. У детей в Израиле, ну, вообще на Западе, очень хорошая жизнь. В школе, в детском саду на них не кричат, их никогда не унижают бессмысленным принуждением, не мучают для облегчения жизни взрослых бессмысленным строем и дисциплиной. Их жизнь насыщена игрой. И эта игра и обучает, и воспитывает, и представляет им познание как самое заманчивое дело на свете. Им много и интересно рассказывают. У них экскурсии, школьные спектакли, праздники. И всё это на иврите. И если после всего этого ребенок, вернувшись домой, слышит только: "Убери свои вещи, ешь скорее" или "Ты опять забыл вынести мусор", то хоть с ним дома и говорят по-русски и только по-русски, но зачем ему такой неинтересный язык, язык, на котором ничего для него не происходит. И он легко переходит на иврит, на котором для него сосредоточена вся интересная для него жизнь.
Другая проблема - наш советский образ жизни и сознания
И вот мы видим, что проблема языка, нашего общего языка с детьми, открывает перед нами другую проблему - нашего советского образа жизни и сознания. Мы очень плохо, можно сказать, по-советски общаемся с нашими детьми. Мы агрессивны, мы давим, слишком воспитываем, не уважаем свободу наших детей. И многим из нас это пытаются разъяснить здешние школьные психологи. Еще бы, ведь нам всегда было некогда. Мы работали, спешили, волокли тяжелые продуктовые сумки, выстаивали в очередях и отсиживали на бездарных собраниях. Для детей времени оставалось только что прикрикнуть: "Делай, как сказано. Я кому говорю?" Это была попытка достичь воспитательного эффекта немедленно, в одну минуту, как пятилетку в четыре года.
Если родители общаются с удовольствием, а не по обязанности проводят время с детьми, если в доме интересно, то дети язык сохраняют. Но вот выясняется, что даже и здесь, на Западе, некоторые советские родители ничего не могут дать детям, кроме руководящих указаний. Им неинтересно с детьми, и детям неинтересно с ними. И тогда дети забывают русский язык и не хотят читать русские книги.
"А ты как разговаривала с детьми?" - "Мы прыгали и пели песни"
Это только принято думать, что у детей все это просто. Не всегда и не у всех. Вот с дочкой у нас не было никаких проблем. В первый день после детского сада в Израиле я спросила ее: "А ты как разговаривала с детьми?" Но она меня просто не поняла. И она сказала: "Мы прыгали и пели песни". Ей в простоте души, в ее 3 года казалось, что она поет то же, что и другие дети. А сын полгода молчал вообще. Не говорил даже шалом, то есть здравствуйте. Учиться совсем не мог. И мы нервничали. А учителя были спокойны. И учителя просили нас не торопить сына, не замечать этой проблемы, не давить. А мы не слушались, конечно, ругали школу. И я пыталась сыну помогать, но кроме слез и скандалов из этого ничего не выходило. И становилось только еще хуже.
И вот пока он двух слов еще не умел связать, учительница мне говорила, какой он начитанный и развитый. И я никак не могла понять, как она это может знать, если он немой. Тем более, что в России, где он первый класс окончил, и где он уж точно был говорливее всех, учительница только жаловалась на грязь в тетрадях и на непоседливость. И вот он потихоньку понял, что учительница его любит и уважает, хотя он и не говорит на иврите. И он успокоился и заговорил. И все же он еще долго не справлялся с языком как следует.
И когда мы переехали и он перешел в другую школу, все как бы снова повторилось сначала. И он снова замолчал и в уроках не участвовал, и дети не играли с ним. Пока однажды их не повели в музей. И там, это был исторический музей, лежали русские книги и были русские письма, принадлежавшие Бялику и Жаботинскому. И Даня стал переводить содержание этих текстов. И его одноклассники увидели, что он не просто такой чудак, который почему-то не знает их языка, а просто он другой человек, с каким-то другим знаниями.
И он стал для них своим потихоньку
И потом они стали его расспрашивать о России. И он рассказал им о своем ленинградском однокласснике Мише Вайханском, которому не дали уехать из Союза вместе с мамой. И это была для них история из совсем неизвестного им, слава богу, мира. И их интерес к этому миру распространился и на Даню. И он стал для них своим потихоньку. Стал своим в классе. Но тогда и иврит его сильно усовершенствовался.
Но вот только-только теперь он начинает читать на иврите не только по обязанности, а для удовольствия. Хотя я ему нарочно Конан Дойля по-русски не дала, а подсунула на иврите. И он все-таки в восьмидесятый раз считал этого ужасного Носова, но на иврите не читал ни за что.
Мария Розанова: Только не надо думать, что эмиграция детям дается легко. Они при этом очень много теряют, и их раны рубцуются так же непросто, как наши. Хотя они этого и не говорят. А вот у советского журналиста Леонида Владимирова, в прошлом редактора журнала “Знание – сила”, который живет сейчас в Англии, отношение с сыном и проблема двух разных языков разрешилась куда более спокойно и оптимистично.
Леонид Владимиров: У меня есть сын, которому 8,5 лет и который родился в районе Кенсингтон в Лондоне. Он, естественно, англичанин, ходит в английскую школу и его родной язык – английский. Парень говорит по-русски очень хорошо. Хотя я не могу сказать, что совсем безакцентно. Но говорит он очень хорошо и по-русски вполне натурально. Почему? Он слышит русскую речь в доме с самого своего рождения. Вполне естественно, что он совершенно двуязычный. До того, как ему исполнилось, скажем, года четыре, ребенок был свято убежден, что английский язык - это тот язык, на котором положено говорить на улице, а русский язык - это тот язык, на котором все говорят дома. И все у него было в порядке, никаких неприятностей.
Все это стройное здание полетело, когда к нам домой стали приходить англичане и в стенах дома стали говорить по-английски. Андрей первое время относился к этому с большим недоверием и в конце концов задал прямой вопрос: "Почему вы говорите по-английски дома? Ведь дома по-русски положено говорить, вот во дворе положено говорить по-английски". У нас некоторое время заняло убедить его, что это не совсем так. Было чрезвычайно забавно, когда он вдруг открыл в себе возможность переводить с одного языка на другой. Долгое время два языка существовали для него совершенно независимо и никак друг с другом не соприкасались.
А когда ему было лет шесть, его вдруг осенило, что что ту же самую фразу можно сказать на другом языке и что, более того, в отличие от многих других людей, он обладает этой способностью. Вы себе не представляете, как его стало забавлять, он стал счастливо хохотать, переводя каждый раз. Когда к нам приходили какие-то люди, которые говорили либо по-русски, либо по-английски, Андрей усаживался в центре комнаты на вращающемся табурете и говорил: "Вы не говорите друг с другом, вы говорите со мной. Я вам буду всё переводить, потому что я знаю прекрасно оба языка”. И вот он с одного языка на другой переводил и до сих пор переводит.
И он всегда очень заботится о том, чтобы перевод был точным.
Наталья Рубинштейн: Я отлично помню, как в середине шестидесятых годов приехал в Ленинград из Бельгии граф Воронцов-Вельяминов. Он прямой потомок Пушкина. И вот он приехал с женой в Ленинград и посетил музей Пушкина на Мойке, 12, где я тогда работала. Его замечательно принимали в музее. Он говорил на безупречном русском языке, хотя не только он сам, но и его родители родились вне России. И вот когда его спросили (ну, вы знаете, есть такой обычай задавать самые дурацкие и самые стандартные вопросы иностранцу, а тут это было особенно всем приятно делать, потому что с этим иностранцем было легко договориться): "Что вам больше всего понравилось в Ленинграде?"
И он, и его жена нарушили почему-то этот светский советский ритуал и не похвалили ленинградское метро или хотя бы Адмиралтейский шпиль. А сказали, что больше всего им понравилось (как в этих словах пушкинского потомка слышится тоска старого русского эмигранта), что за границей он слишком привык к тому, что русские дети с годами все хуже и хуже начинают говорить по-русски. И самое важное для него в нынешней и уже чужой для него России – это то, что не пересыхает там живой родник русской речи. Это и есть для него Россия, независимо от того, под какими политическими лозунгами она сегодня живет и говорит.
Мария Розанова: Продолжает искусствовед Игорь Голомшток.
Игорь Голомшток: В Англии, я думаю, опасность другая. Главное, чтобы человек хорошо говорил на одном языке, чтобы один язык был для него языком его культуры. Поэтому, скажем, для моего ребенка, который приехал сюда, когда ему было всего 3 года, конечно, для него русский язык не будет языком культуры. Очевидно, языком культуры будет для него язык английский. Русский для него сохранится как язык иностранный, и я думаю, что этого достаточно.
Опасность другая – опасность потерять оба языка. Вот есть такие феномены – люди, которые приезжают сюда в подростковом возрасте, еще не впитав русскую культуру, и которые в силу обстоятельств, часто трагических, не могут войти в культуру страны, где они живут, оказываются вообще людьми безъязыковыми. Они не говорят ни на одном языке. И вот это действительно очень страшно. Я с такими феноменами здесь встречался.
Речь идет обычно о людях, для которых культура есть не главная сфера жизни, которые очень плохо говорят по-русски и которые с трудом объясняются по-английски, по-немецки, по-французски, потому что для них и та, и другая жизнь, и та, и другая культура есть нечто чуждое, они сюда не вошли.
Мария Розанова: Итак, язык – это не только средство общения, но и сокровищница культуры, хранитель огромного исторического и жизненного опыта. И язык – это слепок сегодняшнего дня страны и нации. Поэтому мы не только говорим по-русски, но говоря по-русски мы и думаем, мыслим в рамках слов, представлений и интонаций, которыми нас наделила страна, откуда мы родом. Со всем хорошим и со всем плохим, что несет в себе наш современный язык. Поэтому, например, мы, попадая на Запад, продолжаем очень часто и говорить, и мыслить, и даже вести себя по-советски, независимо от наших политических убеждений и ориентиров.
А советское в нашем языке и поведении – это тоже не один какой-то слой сознания, но очень сложная и противоречивая гамма понятий. Ведь в советском обществе, начиная с детства, мы привыкли разговаривать и жить на разных языках. которые причудливым образом совмещаются или борются в психологии ребёнка. Есть язык домашний, и есть язык школы. И то, о чем и как говорят дома, порою нельзя повторять в школе, чтобы это не принесло неприятностей тебе или твоим родителям. На одном языке мы болтаем с друзьями, и совсем другим языком говорим с трибуны на собраниях или пишем в газетах. И вот это двуязычие или многоязычие мы тоже вывезли с собой на Запад. И поэтому людям здесь иногда нелегко нас понять. Не только потому, что они не знают некоторых слов и оборотов, которыми мы пользуемся, но и потому, что они не привыкли так мыслить и поступать, как это делаем мы, советские люди.
Ведь мы покинули не только родину, мы покинули тюрьму со всеми вытекающими отсюда последствиями в психологии и в языке. Вот послушайте рассказ русского писателя Сергея Артамонова, который живет сейчас в Париже, о языке наших детей.
Сергей Артамонов: Летом бывшую советскую детвору можно разыскать в скаутских и иных лагерях, разбросанных по всей Франции. Одни в горах, в лесах, другие на морском берегу. Двое московских уроженцев этим летом жестоко отлупили мальчишку из старой эмигрантской семьи. И не просто они подрались, а в том-то и дело, что "темную" устроили по всем правилам, какие привезли с собой в республиканскую Францию из союза наших республик. То есть накрыли и отколошматили.
За то, что стукач
У них спрашивают: "Да вы что это? За что вы его?" Они в ответ толкуют своё. Он сам знает, за что мы ему сотворили, будет знать. Да что же вы не поделили? Он один и слабее, а вас двое, и оба, можно сказать, инакомыслящие дети не из отсталой страны, но из передового государства. Так какая же сознательность должна быть у вас и какую с него спрашивать? Есть разница? Что он сделал? В ответ тот же хор. Он сам знает, за что. За то, что стукач, если хотите знать. Вот за что. Да быть же этого не может, ребята. Все стукачи наши там остались, откуда мы с вами уехали. А тут своих стукачей, да еще в вашей, в детской среде, надо думать, не завелось. Это вы неправильно формулируете. Он вас не так понял, как вам нужно. Или вы его. А бить нельзя. Ладно. Потом долго еще пришлось разбираться и покончили это дело кое-каким миром, с натяжкой.
А позже эти двое, которые колотили, стояли вместе со мной под башней инженера Эйфеля и, классически сунув руки в карманы, рассуждали: "Много ли эта Эйфелева штука ниже нашей Останкинской?" Я уже приготовился. Ну, думаю, опять иностранную диковину заплюют и бранными словами закидают. Потому что пружины идеологии взведены в этих мальчишках, как в ружьях. Только нажми на спусковую собачку и готово. Бабах! Нет, было не так. Останкинской вышке отдали предпочтение в высоте. А французское железо похвалили за старину. Мол, тоже как-никак хорошая с точки зрения истории, красоты и привычки.
Я подумал тогда же, вот это уже начатки нового сознания. Желание отдать всему справедливость. Даже чрезмерное желание и слишком скорое, но само по себе чистая вещь. Можно надеяться. Вот это уважительное отношение к жизни и культуре чужого народа, рядом с которым живешь, даже если ты не вошел пока в этот новый язык и в новую среду, и служит нам каким-то залогом будущего. Не только в судьбе российских эмигрантов, но и много шире, в живом и дружественном общении народов, независимо от их традиций и обычаев.