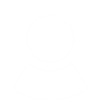Увлечение историей, точнее, ее специфическими интерпретациями, распространяется в российских верхах как лесной пожар. Недавно в амплуа историка выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, ярко высказавшийся о декабристах. По его мнению, участники вооруженного выступления 1825 года "находились под иностранным влиянием", а император Николай I, подавивший мятеж, поступил с декабристами весьма мягко, казнив всего пятерых, а более сотни сослав "во глубину сибирских руд". Насчет мягкости – тут, конечно, смотря с кем сравнивать. Другой актуализировавшийся персонаж российской истории, Сталин, столкнись он с чем-то подобным, конечно, так не миндальничал бы.
Всерьез спорить с историческими воззрениями министра Чуйченко, как и, скажем, Владимира Мединского, смысла, конечно, не имеет. Им, что называется, по должности положено видеть в любом самодержавии, хоть прошлом, хоть нынешнем, благую силу, а в жандармах – главных гуманистов. (Шеф Минюста в своем выступлении на Петербургском юридическом форуме похвалил главу Третьего отделения Александра Бенкендорфа, который, в отличие от декабристов, якобы добровольно освободил своих крепостных. Никакого подтверждения этого не существует). Но вот на декабристах, точнее, на представлениях о них широкой публики, стоит остановиться подробнее. Эти представления многое говорят не только о российской власти, но и о ее противниках.
У декабристов удивительная посмертная судьба: на их репутации почти не отразились российские политические трансформации ХХ и начала XXI века, и репутация эта в основном позитивная. В этом смысле из всего российско-советского исторического пантеона их можно сравнить разве что с Гагариным: того тоже все любят.
Правда, причины любви бывали разными. Советские идеологи вслед за Лениным проводили "генеалогическую" линию от декабристов к Герцену, народникам, а там и к эсерам и большевикам, считая всё это этапами революционной борьбы с царским режимом. Те, кто не любил советскую власть, видели в людях, вышедших на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года, романтичных борцов с самовластием. То есть предтеч скорее не большевиков, возродивших это самовластие в таком виде, который династии Романовых-Голштинских и не снился, а их противников. Такое отношение сохранялось в либеральной среде и после краха СССР – хотя, конечно, мятеж декабристов не относился в последние 35 лет к особенно бурно обсуждаемым событиям российской истории.
По мере того, как Путин всё больше стал отождествлять свою власть с царской, делая почтительные реверансы в адрес то Александра III, то Николая I, нынешний режим начал хмуриться, когда по какой-либо причине приходилось вспоминать о декабристах. Отражением нового подхода (без согласия "сверху" такого рода произведения в нынешней России не появляются) стал выход в 2019 году фильма "Союз спасения", в котором заговорщики представлены в малосимпатичном виде. В каком-то смысле получилась антитеза – художественно, замечу, очень слабая – советского фильма "Звезда пленительного счастья".
Историк Михаил Белоусов, анализируя реакции тогдашних и нынешних властей на мятеж декабристов и его наследие, приходит к выводу: "14 декабря – это не историческая дата, а зеркало. И в нем власть видит не солдат на Сенатской, не Трубецкого и Рылеева, не Конституцию, а собственный липкий, вековой страх. Они боятся. Они по-настоящему очень сильно боятся". Не споря с самим этим психологически верным заключением, замечу всё же, что к реальным декабристам и историческому контексту их мятежа оно имеет лишь косвенное отношение. Хотя, несомненно, большее, чем высказывания Константина Чуйченко, Михаила Швыдкого и прочих выступавших на петербургском форуме.
Прежде всего, Николаю I было чего бояться – причем, в отличие от нынешнего правителя России, бояться без вины: по состоянию на декабрь 1825 года он еще и на престол-то не успел толком вступить, не то что натворить, будучи на этом престоле, что-либо дурное. Это пришло позже. Зато Николай Павлович очень хорошо помнил, при каких обстоятельствах расстался с жизнью его отец. При этом планы цареубийства у некоторых декабристов, например Павла Пестеля и Ивана Якушкина, действительно имелись.
Тут мы и упираемся в вопрос о контексте. События на Сенатской площади (и дополнившее их восстание Черниговского полка), при всем их революционно-романтическом флёре, являлись ближайшими родственниками, точнее, последними потомками многочисленных дворцовых переворотов в России. Основным отличием было то, что, в отличие от бравых гвардейцев, возводивших на престол обеих Екатерин, Елизавету и Александра I, декабристы имели детальную политическую программу (даже несколько программ), не сводившуюся исключительно к смене фигуры на троне. Но и в этом они были не уникальны: "затейка верховников" в 1730 году, тоже не удавшаяся, имела своей целью замену самодержавия более представительным олигархическим правлением во главе с несколькими знатнейшими родами.
Впрочем, времена в 1825 году были уже несколько иные, так что ближайшей параллелью к декабристам является географическая – события, примерно в то же время происходившие в Испании. Там, начиная с 1812 года, когда в результате мятежа прогрессивно настроенных офицеров была принята первая либеральная конституция, наблюдалась регулярная чехарда режимов. Либералы и консерваторы сменяли друг друга, чаще всего в результате военных переворотов (pronunciamientos), пару раз перераставших в полноценные гражданские войны. Эпоха нестабильности длилась шесть десятилетий.
Широкой социальной опоры у них не было, зато были штыки – отсюда и перевороты
Сопоставление с Испанией вполне оправданно. Как и тогдашняя Россия, эта страна представляла собой общество, в котором огромное бедное и необразованное крестьянское большинство было "увенчано" дворянско-бюрократической элитой с большой ролью армии и церкви. Городское население как таковое, а значит, и средний класс, нарождавшаяся буржуазия, были малочисленны и политическим влиянием не пользовались. Носителями либеральных идей являлись офицеры и немногочисленная интеллигенция. Широкой социальной опоры у них не было, зато были штыки – отсюда и перевороты.
Как и в России, в Испании толчок прогрессивным настроениям дали наполеоновские войны. В обеих странах они вызвали патриотический подъем и одновременное желание нового поколения образованных людей покончить с окостеневшей консервативной системой и облагодетельствовать народ – без какой-либо помощи с его стороны. Эту ситуацию хорошо отражает исторический анекдот, согласно которому солдаты, пошедшие за декабристами, думали, что Конституция, о которой рассуждают их офицеры, – это жена великого князя Константина, в защиту чьих прав на престол они якобы выступили (еще одно эхо дворцовых переворотов прошлого).
Дворцовый переворот, в результате которого плохой властитель заменяется более приемлемым, кажется многим последней надеждой
Сколь ни строго правило, согласно которому история не знает сослагательного наклонения, логично предположить, что, победи декабристы, Россию ждало бы нечто подобное хаотичному испанскому XIX веку. Ведь среди руководителей мятежа изначально были разногласия по поводу будущего страны (более радикальный проект Павла Пестеля и умеренный – Никиты Муравьева), а опора в народе у них была столь же невелика, как у их испанских коллег. Всё это не умаляет ни смелости, ни благородных намерений декабристов, лишь делает их людьми своего времени, не заслуживающими ни чрезмерной романтизации, ни тем более однозначного осуждения.
Возмущение, которое вызвали у либеральных наблюдателей "монархические" выступления путинских чиновников на петербургском форуме, возможно, имеет еще одну психологическую причину. Декабристы – классические "люди с хорошими лицами", интеллигентные идеалисты из рядов элиты, попытавшиеся изменить политический строй, минимально вовлекая в это дело "ширнармассы". Судя по тому, как часто в последние годы звучали из рядов противников режима намеки на "табакерку и шарф", орудия убийства Павла I, именно дворцовый переворот, элитный междусобойчик, в результате которого плохой властитель заменяется более приемлемым, кажется многим последней надеждой – в условиях, когда общество либо проявляет лояльность правителю, либо в лучшем случае молчит.
Беда в том, что, как и двести лет назад, согласно известному афоризму, "мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе". А для революционной смены системы междусобойчика явно недостаточно.
Ярослав Шимов – историк и журналист, обозреватель Радио Свобода
Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода